
В Новой Третьяковке проходит выставка Эдуарда Штейнберга
Я из Москвы уехал в Тарусу через Париж. Эта фраза Эдуарда Штейнберга (1937-2012), одного из ключевых художников поколения «отверженных», как он сам его называл, могла бы быть эпиграфом к выставке в Новой Третьяковке. Проект «Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса» приурочен к 85-летию со дня рождения мастера.
Таруса в названии как пункт назначения. Но для Эдуарда Штейнберга как для художника этот город был и пунктом отправления. И если на склоне лет в Париже Штейнберг пишет картины, задуманные в Тарусе, то ранние работы рубежа 1950-60-х годов, будь то «Тарусский пейзаж», «Автопортрет» или «Время сева», писались на Оке с отчетливым «французским» акцентом. В его автопортрете в кепке, с сигаретой в зубах и едва заметным богемным шарфиком, написанном с энергией и яркостью фовистов, кажется, проступают герои наших заводских предместий и парижского «Улья». Он работал в истопником, землекопом. За плечами была художественная школа, школа рабочей молодежи и учеба у отца, вхутемасовца Аркадия Штейнберга и Бориса Свешникова. И если художники «Улья» завоевывали Париж, то юный Штейнберг завоевывал Москву. «Жизнь Ван Гога принимаю для себя как единственную аксиому», — скажет он позже.
Таруса была подходящим местом для нового Ван Гога. «…Еще с конца XIX века Таруса стала городом художников, своего рода нашим отечественным Барбизоном. Здесь жили Поленов и тончайший художник Борисов-Мусатов, здесь живут Крымов, Ватагин, — писал Паустовский. — …Таруса сделалась своего рода творческой лабораторией и приютом для людей искусства и науки». Так открывался альманах «Тарусские страницы». Тот самый, который сразу после выхода в 1961-м был изъят из библиотек.
Паустовский не стал уточнять, что Таруса с середины 1950-х стала приютом для людей искусства и науки, поскольку была за 101 км от Москвы. Здесь разрешено было селиться вышедшим из лагерей. Среди этих последних был и папа Эдуарда — Аркадий Штейнберг, «вхутемасовец», переводчик, фронтовик. Здесь же селится после лагеря художник Борис Свешников. Сюда приезжают на лето Надежда Мандельштам, кинокритик Николай Оттен. В Тарусе появлялись Николай Заболоцкий, Ариадна Эфрон, Борис Балтер, Владимир Максимов, Иосиф Бродский. Эдуард, который переедет к отцу в Тарусу в 1954-м, скажет, что ему повезло: здесь «жили многие бывшие заключенные, люди исключительные. Они вели философские споры, говорили о Мандельштаме и Цветаевой в то время, когда эти имена еще нигде не упоминались». Атмосфера Тарусы определила напряжение художественных поисков. Конечно, по словам переводчика Виктора Голышева в интервью Георгию Кизевальтеру, «Эдик… был такой упертый». Но и «время было азартное: тогда можно было прорваться к человеческому».
Таруса, круг московских нон-конформистов и коллекционеров (тут надо вспомнить Костаки с его коллекцией русского авангарда) определили контекст этого «прорыва к человеческому». Для Эдуарда Штейнберга человеческое было неразрывно связано с поисками высшего смысла бытия. И в художественном плане ключевым для него собеседником становится Казимир Малевич. Потрясением становится первая встреча с «Черным квадратом» в 1981 году на выставке «Москва — Париж. 1900-1930». Казалось бы, что может быть дальше от «человеческого», чем суперматизм Малевича? Но для Штейнберга геометрия — язык философов, космоса и росписей в катакомбах первых христиан. Он пишет в «Письме К.С.»: «Для меня Ваш язык стал способом существования в ночи, названной Вами «Черный квадрат». Думается, что человеческая память будет всегда к нему возвращаться в моменты мистического переживания трагедии Богооставленности. …Ваш «Черный квадрат» вновь показан русской публике. В нем снова ночь и смерть. И снова вопрос — будет ли Воскресение?». Еще раньше обронит: «Благодарите судьбу, что Вы оказались в начале новой истории, а не в конце ее, когда «Черный квадрат» стал воплощенной реальностью».
Штейнберг перевел призрачность полотен Борисова-Мусатова на язык Малевича и Ротко
Это письмо приоткрывает завесу над той «трагедией ночи и смерти», которая мучает художника. Оно заставляет по-новому взглянуть, например, на серию картин, написанных в 1980-е в деревне Погорелке. Гибель деревни и мужиков, от которых остаются только кресты и имена в пространстве картины, становится у Штейнберга трагедией космического масштаба. Его «Деревенский цикл» перекликается с «Крестьянским циклом» Малевича, но язык взят не только у супрематистов, но и русской иконы.
Поразительно, что от «трагедии ночи и смерти» Эдуард Штейнберг движется в высветлению холста, к сияющему свету, который, кажется, готов поглотить все горести. Среди самых мощных работ — «Композиция. Посвящение матери». Пространство земли, небес и райского мира предстают в вечной гармонии, геометрические фигуры, как эйдосы, воспаряют к пределам видимого. Штейнберг перевел мистическую призрачность полотен Борисова-Мусатова на язык Малевича и Ротко. Может быть, поэтому печаль тут не переходит в отчаяние, но выстраивает остов надежды.

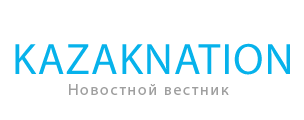





Комментарии