
Пушкин поделился ссылкой
В августе 1824 года русский поэт Александр Пушкин приехал в родовое поместье Михайловское. Не по своей воле. Он был сослан сюда императором, приговорен, выражаясь нынешним языком, к домашнему аресту. Надзирать за поэтом дал согласие его отец — Сергей Львович, что повлекло неизбежную размолвку между отцом и сыном.
Пушкин поделился ссылкой
А что, собственно, натворил Александр Сергеевич, за что он был наказан, почему царь счел возможным грубо вмешаться в его частную жизнь и личную судьбу? Летом 1824 года коллежский секретарь Александр Пушкин, будучи в Одессе, вел себя неподобающим образом. С точки зрения губернатора графа Воронцова. Во-первых, коллежский секретарь Пушкин недвусмысленно давал понять графу и его окружению, что он (граф) мягко говоря недалекий человек, а если попросту, то — дурак. Во-вторых, не взирая на первое обстоятельство, коллежский секретарь вовсю ухлестывал за графиней Воронцовой, которая в отличие от графа и знала и понимала, что Пушкин — одаренный поэт и остроумный человек. Воронцов же полагал, что бумагомарак в России много, а вот чиновнику ни дерзить, ни блудить не положено. Однако это еще не всё. Коллежский секретарь Пушкин позволял себе публичные атеистические высказывания, оскорбляя таким образом чувства верующих. Увы, и первому поэту России не удалось избежать оскорбления этих чувств.
А вот теперь ответьте: мог ли в создавшихся критических обстоятельствах губернатор Воронцов не донести государю императору на своего подчиненного? Правильно — не мог. Вот он и донес. Государь император конечно разгневался, и поехал Пушкин в Михайловское.
Надобно сказать, что государь император не изобрел ничего нового: и до него, и после ссылка поэтов только за сказанное и за написанное стала в России рутинным делом. Путешественник из Петербурга в Москву Александр Радищев был принужден отъехать в сибирский Илимск, Владимир Короленко — в якутскую слободу Амгу, в деревню Пинега Архангельской губернии отправили Александра Грина, в Воронеж Осипа Мандельштама. Россия исторгла из своих пределов и Александра Солженицына, и Андрея Тарковского, и Юрия Любимова, и Иосифа Бродского… Логика высылающих во все времена проста как молоток: нет человека — нет проблемы. Господа высылающие, однако, и по сей день не ведают, что, когда страна выталкивает гигантов, в их отсутствие начинают править бал пигмеи. Они как пьяные женихи на гомеровской Итаке, в отсутствие хозяина изо всех сил пытаются натянуть тетиву Одиссеева лука, но в конце концов понимают — кишка тонка: лук Одиссея подвластен только Одиссею.
У большинства русских поэтов, отправленных в ссылку, и творческий путь был исковеркан, и судьбы сломлены. А для многих ссылка стала прямой и быстрой дорогой к могиле.
Но не у Пушкина. В изгнании Александр Сергеевич написал едва ли ни лучшие строки за свои тридцать семь лет. Здесь создан «Борис Годунов», здесь написаны поразительные главы «Евгения Онегина». Друг его Вяземский спустя некоторое время после ссылки Пушкина писал о заметном и волшебном повзрослении его души, о том, как он изменился за те два года, как вырос, как необычайно развился, обогнав намного товарищей своего ближнего круга…
Удивительно, однако то же самое рассказывал мне о Бродском писатель и эссеист Александр Генис. Он утверждал, что в изгнании Бродский проделал стремительный путь духовного прорастания. Когда много лет спустя его ленинградские друзья приезжали к нему в Нью-Йорк — была заметна эта разница: между его душой, чрезвычайно развившейся и повзрослевшей, преодолевшей сотни ступеней роста, создавшей поэзию высочайшего уровня и поэтами его бывшего ближнего круга, не одолевшими и одного лестничного марша. Что стало для Бродского пушкинским Михайловским? Венеция. Этот удивительный город, напоминавший ему Ленинград, только без советской власти, без его гонителей и судей. Этот тихий причал, где нет автомобилей, а есть далекий стук каблучков в ночи, где время замедляет свой бег, успокаиваясь, словно лагуна в безветрии.
Когда я это понял, во мне поселилась догадка, не дававшая мне покоя. Мне казалось, я знаю ответ на вопрос: что произошло с Пушкиным в Михайловском и с Бродским в Венеции, что позволило им не только не сломаться в изгнании, но выстоять и обрести новое качество души? Догадку надо было проверить, я отправился в Михайловское.
И вот однажды утром я вышел из гостевого домика и опушкой леса отправился на усадьбу, чтобы оттуда спуститься к берегу озерца Маленец, обогнуть его, подняться по лесной дороге на заросший соснами холм, миновать деревню Савкино, и, повернув направо, оказаться на узенькой тропинке, ведущей наверх, к маленькой часовенке. Эта часовенка и всё, что откроется за ней — и было моей целью.
Для проверки догадки у меня небольшой выбор. Мне оставалось только пройти тем самым путем, по которому шел Пушкин, в то самое место, которое он особенно любил и к которому всегда стремился по дороге в Тригорское. За двести с лишним лет пейзаж тут сохранился в основных своих пропорциях, и значит я смогу увидеть то же самое, что видел он. Вопрос в том, смогу ли я почувствовать то же, что и он, смогу ли понять его?
Вот и тропинка, уводящая направо к старой часовенке. Вот и одинокая сосна, вот и шатер старой березы с покосившейся лавочкой под ней… Я сделал последний десяток шагов, утер пот со лба, поднял голову и, как много лет назад, замер, подчиняясь магии великолепного русского пейзажа, открывшегося мне. Справа, через долину скошенной травы шла едва заметная тропа к старой мельнице. Взбегая по зеленому пригорку, она спешила к калитке в изгороди, за которой виднелся домик няни. Левее излучина Сороти поблескивала солнечными бликами, которые гасли в старице, уже заросшей кувшинками. А там дальше темнело озеро Кучане, на берегу которого угадывалась купальня, венчавшая парк в Петровском. Левее — деревня Дедовцы, а за ней поверх зарослей кустарника уже проглядывало городище Воронич, за которым открывается Тригорское…
Я стоял как вкопанный. Солнце замерло в зените, разливая приторный жар под куполом неба, густой воздух сочился ароматом хвои и скошенной травы, деловитый шмель прогудел надо мной и скрылся в высоких цветах иван-чая; из Зимарей раздавался зуд мотопилы, там заготовляли дрова на зиму; далекий женский голос из Савкино звал какого-то Мишу домой; я не заметил, как дыхание мое выровнялось и почти исчезло, словно время волшебным образом замедлило свой бег, превратившись из городского потока воды в густой и протяжный медовый оползень. Так может быть в этом все дело — во времени, которое становится и в этом чудесном месте медленным, позволяя душе, как в материнских объятиях, расти быстро и взрослеть не по часам. То же упругое замедление времени я ощутил когда-то и в Венеции, стоя на набережной Неисцелимых — любимом месте ссыльного Бродского.
Господа высылающие, однако, не ведают, что, когда страна выталкивает гигантов, в их отсутствие начинают править бал пигмеи
В сущности, что мы знаем о времени? Оно измеряется тем, в чем есть признаки протяженности: пространством, звуком, светом. Стрелками часов измеряют долготу рабочего дня, рекорды спортсменов и обеденный перерыв. Часы изобретены человеком и для людей. Временем мы можем лишь пользоваться, но вряд ли оно создано для нас.
Не всякому доступен этот редкостный дар судьбы — уникальное совпадение пространства, звука и света, в котором оживает Время, способное хранить душу. Это позволено гениям. Мы можем об этом только знать.

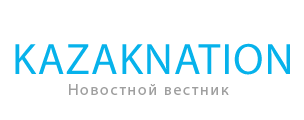





Комментарии