
МХТ им. Чехова празднует 125-летие: почему театр растет, а не стареет
Одержимое литературой, а вовсе не театром, это поколение рубежа веков понимало театр как истолкование литературы, как ее переводчика на «более понятный и уже совершенно свой язык». Описывая отношение к ранним спектаклям МХТ как к литургии, Мандельштам видел в этом «своеобразное стремление прикоснуться к литературе как к живому телу, осязать ее и вложить в нее персты». Доводя свою мысль до парадоксальной остроты, он обвинял все поколение и театр, выразивший его главные устремления, — в неверии в реальность Слова.
Статья писалась в 1925 году, когда напоминание о Слове-Христе было не слишком уместно. Но подспудно ощущался и этот упрек: МХТ/МХАТ долгие годы и даже десятилетия воспринимался его публикой как храм — в том числе потому, что не верили Слову как таковому, жаждали его осязать.
Как бы ни относиться к этим размышлениям поэта, то, что Художественный театр с первых дней стал храмом интеллигенции — навсегда факт русской культуры. Когда после революции Станиславский, как и Немирович-Данченко, размышлял о гипотетическом отъезде из страны, важнее всех других для них оказался один мотив: храм не должен ни опустеть, ни закрыться.
На что были готовы Станиславский и Немирович-Данченко ради сохранения этого храма? Метод с годами превращался в догму, живая ткань творчества костенела? Сами создатели никогда не возражали против того, чтобы их мизансцены копировали, расширяя влияние МХТ на всю Россию. Создавая кружево своих спектаклей, доводя до предела стремление «осязать», театр породил поколение людей, которые знали наизусть «мизансцены Художественного театра», даже не видя их воочию. А они собирали по крупицам, сберегали ускользающий мир — свой невидимый град Китеж.
Выжив после революции и Гражданской войны, МХАТ смог возродиться в 1924 году под абажуром «Дней Турбиных». Накануне новой страшной войны, он вновь подарил своей публике чувство воскресшего града Китежа — в спектакле Немировича-Данченко «Три сестры». И для погибших на войне поэтов Павла Когана, Михаила Кульчицкого, и после войны для режиссеров Георгия Товстоногова, Олега Ефремова, Анатолия Эфроса, — этот спектакль тоже стал своеобразной литургией. Что заставляло всех их, замерев, внимать предчувствиям чеховских сестер?
К 1960-м от того старого, знаменитого театра, казалось, не было уже и следа — билеты туда стали давать в нагрузку. Но… выпускники Школы-студии МХАТ, молодые актеры, стали репетировать ночами и сочинять свои «Дни Турбиных» с символическим названием «Вечно живые»: они дадут начало «Современнику». Олег Ефремов и его товарищи спасали саму идею театра-миссии, театра-служения, театра как художественного акта. Во имя этого и Анатолий Эфрос вел свой интенсивный диалог со Станиславским на страницах книг, в дневниках и на репетициях. Чтобы спасти эту идею, в 1970-м Ефремов пожертвовал «Современником», ставшим уже легендой, вернулся и создал во МХАТе к началу 1980-х самую сильную труппу в стране.
Придя во МХАТ, изрядно потускневший в новом веке, Олег Табаков вновь превратил театр в блестящий конгломерат новых режиссерских и актерских созвездий, удалил из названия кондовую букву «А» («академический») и вернул первородную аббревиатуру МХТ.Как долго проживет в очередной раз возрожденный Художественный театр? Такая у него 125-летняя история: как таинственный град Китеж, он снова и снова всплывает из темных вод, заставляя волноваться, драться за первородство, спорить, вспоминать основателей, сокрушать все и жертвовать всем, сберегая храм… Рожденный духом Фомы неверующего и нервным духом интеллигенции конца позапрошлого века, театр продолжает ставить свои непростые вопросы новому веку.

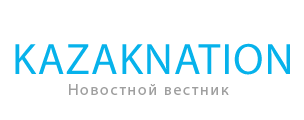





Комментарии