
Евгений Гришковец — в коротком списке премии «Большая книга»
Разговором с Евгением Гришковцом, автором романа «Театр отчаяния. Отчаянный театр», мы продолжаем серию бесед с финалистами «Большой книги»-2018.
— «Театр отчаяния» — книга победителя?
— «Большой книги»?
— Победителя «по жизни».
— Думаю, да. Эта книга человека, который не проиграл точно. Как автор, так и герой книги.
— Там есть эпизод, когда герой решает вернуться из Берлина в Россию, на последние деньги покупает билет и обнаруживает, что на нем нет ни даты, ни вагона, ни места. Ему объясняют, что билет дает право на поездку, но на ближайшие месяцы нет свободных мест. Надо ждать, пока место появится, и еще доплатить, чтобы реально уехать. Это какая-то проекция мироустройства: билет есть, жизнь — вот она, тебе ее дали, а место не указано. «Театр отчаяния…» про это?
— У меня сложно с метафорами. Я человек конкретный. Мне не нравится, когда говорят: «Гришковец занял нишу, которую прежде никто не занимал». Отвечаю: «Не занимал я никакую нишу, этой ниши не было. Я ее сделал. Правильно вы говорите. Билет был — это жизнь, рождение. С остальным повезло и сам постарался…Вот видите, все же получилось ответить метафорично.
— Почему в книге нет имени героя? Намеренно оставляете зазор между собой и персонажем?
— Обязательно. Там нет не только имени героя, там нет имен его ребенка, родителей, даже жены! И нет ни одной даты. Это же роман, а не хроника. Невозможно все важное выразить художественным способом. Прежде всего — хронологию. Чаще всего год-два жизни идут рутинно, потом знаковые события начинают происходить одновременно. Поэтому, растягивая хронологию, разравнивая, сознательно идя на нарушение фактической жизненной правды, я получил картину, похожую на развернутую карту мира, которая отличается от глобуса тем, что на ней две Аляски и искажены расстояния. Где-то жизнь и роман совпадают максимально, где-то я сознательно пишу так, как требует литературное произведение.
— Литература и театр — очень разные по природе материи…
— Я четко понимаю, что занимаюсь совершенно разными делами. Роман о том, как я сделал театр, которого не было. Он, театр, появился не на пустом месте. Я знаю художников, которые позволили мне сделать такой шаг: Ираклий Андроников и Михаил Жванецкий. И понимаю: без них я бы не решился.
— Жванецкий знает?
— Да. Он хорошо понимает, где я обращаюсь к его опыту, прибегаю к его методу и использую его способ высказывания, игру со смыслами. Он это знает, но у меня театр, где спектакль появляется цельно. Не сначала текст, а потом его постановка. Этот текст может существовать только в виде спектакля. Потому что на сцене у меня другие возможности: могу работать с паузой, с интонацией, с жестами. В спектакле меньше слов, чем в тексте. Запись на видео или запись в виде текста — компромисс. То, что делал Андроников, могло существовать только как исполнение. Но это не было спектаклем. Это не было театром, это на самом деле эстрадные выступления, но эстрада особого рода.
— И Жванецкий, и Андроников — «одни такие».
— Вот и я один «такой». Раньше скромничал, а теперь понимаю: 20 лет существую в этом одиночном пути и понимаю, почему не может быть рядом партнера. Со мной рядом может быть соавтор. Потому что как исполнитель я никого не могу интересовать. Всякий зритель в зале знает, что перед ним автор. И если стало бы известно, что есть некий автор, который мне пишет, я бы никого не устроил.
— Но вам же театра мало?
— Мне литературы мало, а не театра. Это мое главное дело. Просто не отдавал себе в этом отчет. Были годы, когда я не написал ни строчки. Только после романа «Рубашка» понял, что я только писатель. И признаться в этом даже себе было страшно. Не актер, не режиссер. Писатель, который исполняет свои тексты. Я иногда актер в кино, потому что это очень весело. Это мое приключение, мое развлечение. Но кино для меня необязательно.
— Вы настаиваете, что «Театр отчаяния» — роман?
— Конечно, роман. Причем я старался его писать в традиции такого матерого английского романа XVIII века. В нем нет влюбленностей, семейных отношений… Роман-испытание. Самым трудным оказалось тщательное удаление признаков эпохи.
— Сейчас ценится бережное фиксирование деталей быта, уходящей натуры.
— Люди не понимают сути литературы. Почему Довлатова не может читать современный 25-летний? Он ощущает Довлатова как писателя современного, не архаичного. Но все время натыкается на признаки канувшей эпохи и не узнает того, что пили, носили, где жили, о чем говорили персонажи. Довлатовский текст по сути современный, но наполнен реалиями страны, которой уже нет. И молодой человек отказывается это читать. В моем романе этого нет. И значит, он сможет прожить какое-то время. Мне важно, чтобы роман ощущался сегодняшним. Для тех, кому 25.
— Но это роман о прошлом.
— Нет! Не о прошлом, а о пережитом. В этом разница. Я не ставлю задачи продемонстрировать свойства своей памяти, мне не нравится заниматься воспоминаниями. Не люблю рассматривать фото, старые письма, возвращаться в прежние места. На острове Русский, где прожиты самые страшные полгода моей жизни, спустя 20 лет я обнаружил руины. А руины наблюдать больно. Каждый год бываю в Кемерово. Когда приезжал туда спустя пять лет после отъезда, думал: надо сходить в школу. Теперь понял: мне не нужно видеть то, что там сейчас. Я помню все по-своему. У меня есть фото, где мне два года. Я стою рядом со свежевысаженными деревьями. Решил посмотреть, как они выросли за 49 лет. Нашел это место — нет тех деревьев, ни одного не осталось, на их месте — довольно свежие елки. Для меня Кемерово — давно художественное пространство. Как только самолет касается земли, для меня этот город открывается как файл. Мне не нужно снова ходить по его улицам, потому что я и так все знаю.
Ныряешь в прошлое как за жемчугом, а возвращаешься несчастным…
— Тем не менее роман — сплошное воспоминание.
— Из воспоминаний я делаю литературу. И уставал от воспоминаний ужасно. Чем подробнее я помнил, тем меньше мне доставляло радости об этом писать, тем скорее хотелось закончить главу. Процесс воспоминаний — опасное занятие, этокак нырять за жемчугом. Ныряешь, а возвращаешься травмированный. Потому что оставляешь неупомянутыми много любимых людей, которые не нужны роману, а у этих близких людей не будет больше ни одного знакомого писателя, кроме меня, значит, они никогда не будутчастью литературного произведения.
— Самые острые, на ваш взгляд, нынешние культурные и цивилизационные вызовы?
— Человечество обожествило интернет, не понимая, что это просто прекрасный инструмент. Его обожествили и пытаются жить с инструментом как с живым существом. Масса ужасных перекосов. Литература, например, столкнулась с тем, что сейчас человек читает и пишет гораздо больше, чем 15 лет назад. Беспрерывно что-то пишет и постоянно что-то читает. Чушь, которую он пишет и читает, вступает в конкуренцию с настоящей литературой. Появились люди, которые читают три-четыре книги одновременно, а, значит, не читают ни одной. Знаю людей, которые постоянно читают что-нибудь, но невозможно читать хорошую литературу ежедневно. Настоящее чтение требует серьезного труда. Я верю в периоды запойного чтения. Тогда литература мало того что впечатляет, но она еще усваивается и запоминается потрясающим образом.

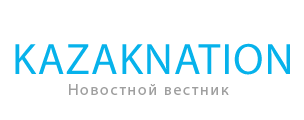





Комментарии