
Воспоминания Александра Солженицына о том, как школьные годы определили его характер
Сегодня исполняется 101 год со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Представляем внимаю читателей нигде не публиковавшиеся отрывки из его воспоминаний об учебе в ростовской средней школе. В полном объеме глава «Школа» выйдет в седьмом выпуске «Солженицынских тетрадей», подготовленном Отделом Дома Русского зарубежья по изучению наследия писателя. Как сообщает Наталия Солженицына, «к середине 1980-х, десять лет как изгнанный из СССР, завершив огромный «Март Семнадцатого» и начав «Апрель», Александр Исаевич «мог разрешить себе» и другие занятия: читать «просто для удовольствия» и записывать впечатления (так родилась «Литературная коллекция»), обрабатывать свои многолетние лексические выборки (тем готовить к печати «Словарь языкового расширения»), вернуться к ранней неоконченной повести «Люби революцию» (но так и не стал кончать), доделывать в мелочах «Телёнка» и «Невидимок» для будущего печатания, — а пожалуй, «не миновать и рассказать о своей жизни — в той части, какая не перекрывается с «Телёнком»»: «На мою жизнь уже столько наклеветано, и в крупном и в мелком, — пишет он в «Зёрнышке», — что приходится и в этом всём копошении разбираться — хотя бы только для моих сыновей да будущих внуков». И летом 1985-го «окунулся в давние годы», за два месяца написал что вспомнилось, до 1957-го года. Работа осталась неоконченной, и распоряжение по ее поводу дано было неохотно: «Можно открыть не раньше, как лет через 10 после смерти или ещё позже». Десять лет миновали».
Мы также публикуем найденную в личном архиве Солженицына «Крохотку», единственную, написанную не в России, а в изгнании.
***
Перестроить и обольшевичить школу была, разумеется, одна из первых послеоктябрьских задач большевиков, однако и первых задач у них было немало. Перестройка старых гимназий и реальных училищ в «единую трудовую школу» началась сверху, со старших классов, да для этого у них был и рычаг комсомола, существовавшего с 1919. За средние классы (5-7) взялись позже, да и «юные пионеры» учреждены были только в 1925. А младшие классы (1-4) почти убереглись ещё несколько лет, и ещё не было «юных октябрят», и как раз в эти годы, до 1930, я успел проучиться там. Конечно, полагалось отмечать беседами все «пролетарские праздники» (а ёлку поносить и запрещать, уж о церкви и не заикайся), вменено было начальным учителям найти время для «обществоведения» — простейших сведений о составе и жизни коммунистического государства. Но ещё по-прежнему сохранялось представление, что главная задача тут — научить читать, писать, считать, а для того сохранялись нетронутыми и прежние учителя, в нашей «группе» Елена Владимировна Белгородцева, лет под 40, а казалась нам глубоко в летах, и всегда в тёмном, как в полутрауре. Знать, это всё самое она преподавала и до революции — и перелёты птиц, и задачи на продажу товаров — да вот теперь надо было добавить, из чего состоит Закавказская Федерация. Е.В. была скромных способностей, не гневливая, благородная женщина, вполне владеющая классом, очень строгая к чистописанию. Я почему-то уже тогда догадывался (а через 40 лет подтвердила мне и моя соученица Нина Малявко-Высоцкая), что всё новое в преподавании было ей нестерпимо (да была она и верующая, подглядели девочки у неё икону за кроватной занавеской), она комкала это новое.
Я оказался более чем подготовлен и грамотен, только аккуратность письма у меня была не слишком. Мне неприятно было писать крупные буквы в полные размеры клеток, и, с разрешения Е.В., я умельчился уже в 3-м классе, но почерк пострадал. А затем и в линованных строчках я совсем не нуждался, они меня только раздражали, я умудрялся гнать прямые строчки гораздо гуще — это и пригодилось при скором затем бумажном кризисе. (Тут было и моё отвращение к внешним стандартам, и общее желание сжиматься, жить узко, уже тогда это проявилось.) Правда, арифметикой я никогда прежде не занимался — но тут, в задачах, с удивлением увидел, что соображаю острее и быстрее всех, только сравнением мы и узнаём свои способности, оказались мои математические впереди. А прочие предметы — пришлись мне и совсем уж легки. И я, к маминой радости, а для себя совсем неожиданно, оказался прочно первым учеником, и так на все школьные годы насквозь.
Но уже отлично я понимал, что здесь, в школе, ничего нельзя говорить ни о нашей семье, ни о том, что я действительно знаю и думаю (вероятно, и мама готовила к этому, для семьи была бы большая опасность в моей болтливости, — но я сразу и легко усвоил), и даже по обществоведению надо было знать и говорить только вот то, что говорилось в классе, а не касаться того многого, что я уже знал из газет и что вызывало разные вопросы. Так, прежде всего советская школа стала мне школой скрытности: из серьёзного — никому ничего, и говори как надо, а не что думаешь, — и это с 9 лет.
С 17 лет я ощущаю свою жизнь как стрелу, запущенную не мною. Мне в полете надо было только: не отклониться (хотя сам не знал, куда лечу), не задержаться — успеть!
***
Сам я тогда не задумывался, что собрали нас «из хороших семей», что отцы — адвокаты, врачи, крупные инженеры, большинство моих соучеников живёт в хороших квартирах по несколько комнат, с паркетными полами, даже в богатых условиях, — я не понимал этого неравенства, и что сам я из бедной семьи, что живём в хижине-развалюхе, хожу в байковых рубашёнках… В детстве принимаешь жизнь естественно и без зависти к другим жребиям, я был всем доволен, нищета не осознавалась мною. Впрочем, были в классе и скудные, и малоуспешные — просто кто рядом со школой жил.
Но расположение школы в самом центре Ростова и «интеллигентный» престиж её приводили ещё к одной особенности: состав нашей группы частенько бывал наполовину и больше из евреев. Несмотря на остережения тёти Иры, но благодаря вполне интернациональному духу Федоровских — для меня это не составляло никакого особого явления, не было отметно, и в самых близких друзьях у меня был Мотя Ген (уклончивый и любезный, очень не нравился маме, но она не мешала нашей дружбе), — однако в том сгнеталась атмосфера, которой ещё предстояло сказаться.
Был у меня один и православный друг (он не слишком это скрывал), Игорь Вознесенский, сын известного в городе хирурга… Я воспринимал обстановку в их семье как чопорную, изобильную, это меня стесняло, но в их дворе сохранились подземные коридоры торговых складов с мутно-стеклянными кое-где потолками — и это было раздолье для наших игр в подземелья с деревянными мечами. В нашей компании был и шустрый маленький Шурка Каган, однажды убедивший крупного, рослого, красивого Игоря украсть лодку на Дону и плыть в Америку. Но им нужен был третий, обратились ко мне — а я нисколько не возжёгся, но безжалостно развалил все их иллюзии: никуда не доехать. (Через 70 лет, в Москве, встретились и с Игорем. И который раз в таких поздних встречах выявляется особенность памяти: каждый помнит что-нибудь такое, что другой нацело забыл. Игорь уверяет меня, что я заявлял им знание мною марсианского языка. «А как будет Марс?» — «Зентар». — «А как Земля?» — «Тио». Я — и близко не помню ничего такого. Но меня особенно то поразило, что мой младший сын Степан, в детстве, обороняясь от старших братьев, тоже заявил, что он знает язык некой страны Джининьи — и с бойкостью сочинял любые слова из того языка.)
***
Всем этим играм я дань отдавал, и в школу ходил ежедневно, как полагается (помню, иногда по воскресным вечерам бывали в школе и киносеансы, это диво тогда), — но школьная жизнь ещё не захватывала меня, и не давила: главная жизнь всё ещё лилась частная, помимо школы. С 1928 уже началось моё шутейное писательство, конечно всё приключенчество, разбойно-детективные «романы»: «Морской разбой», «Последний пират», «Синяя стрела», «Страна пирамид». С 1929 я стал «издавать» неизвестно для кого, без читателей, может быть Миша читал да мама смотрела, — журнал «XX век», каждый номер всего на вырванных двойных тетрадных страничках, печатными буквами размещал там отрывки из своих произведений и анонсы на будущее. (И, уже отрава школы: зачем-то переписывал туда и отрывки из школьной газеты «Ленинские внучата», пошлейшая рифмованная проза, советский раёшник.)
Фильмы о Нуриеве и Солженицыне покажут на фестивале «Русское зарубежье»
И — диапазон! — в 1929, в начале 3-го класса, я прочёл «Войну и мир» в сытинском издании, взятую у Федоровских (надумали они меня допустить для пробы), — и книга произвела на меня сотрясающее впечатление — форматом эпопеи, огромностью исторического охвата (частные линии — все куда менее были мне интересны, масонство Пьера скучно, а историософские рассуждения Толстого очень впивчиво читал). Я чувствовал, что это — не просто чтение, со мной произошло что-то очень крупное — но что именно, я ещё не понимал. А произошло, что во мне уже собрались все нужные элементы для замысла — вот, формат «Войны и мира», эта объёмная хватка исторических событий — и острая задетость Революцией, через судьбу семьи и через книги Шульгина, — а всё воедино не слилось, для этого душе надо было зреть ещё семь лет. И куда годилось мне предложение описывать море? — да чего ж это стоит в сравнении с куском великой Истории?!)
***
В таком возрасте какие задатки в нас сидят — мы и сами не понимаем. Например, меня мучила, как чудачество, такая загадка: на каждом трамвайном вагоне написан его собственный номер (то ли заводской, то ли инвентарный) и все не больше двухсотого. Так я ставлю себе задачу проверить: все ли номера от 1 до 200 содержатся в Ростове? И в течение многих месяцев никогда не пропускаю на проходящем трамвае номера, записываю, и хожу ещё на улицы дальних маршрутов, проверять там. Это уже — любовь к систематике и классификации, очень она мне понадобится в будущем, как и другие мало русские черты характера — организованность, пунктуальность, страстное трудолюбие, трезвенность — да я этого не понимал, конечно.
***
А ещё же эти годы, 1932 и 1933, были и годы разорения всеобщего, и даже голода. Говорят, по Ростову ходили-побирались изредка прорвавшиеся с Украины, с Кубани голодные, иногда и мёртвыми их находили на улицах, но я сам не видел. Хлебная норма была служащим (маме) и мне (детская) — по 250 граммов в день (лишь вдвое больше будущей ленинградской блокадной). За ней и за другими карточными продуктами бегал всегда я, и особенно прытко выбегал захватить очередь, если слышал трубу развозного керосинщика (все сбегались с бидонами как на пожар, а иные, заметив ещё неслышного, шествовали за ним пять-шесть кварталов, в надежде, где он остановится). И эта моя беготня за продуктами, береженье карточек, копеек и крох, скудость, в которой мы жили, — железно стягивали меня в духе бережливости и самоограничения, которые и от природы сидят во мне. Я никогда не просил у мамы ни добавочной еды, ни лишней траты, годами не просился в кино, чтобы не потратить 10 копеек на детский билет, и не ездил на трамвае, отказался от коньков, потому что для этого надо было испортить каблук единственных ботинок, так и не катался никогда на коньках.
Когда мама служила в доме профсоюзов, она получала талон на взятие обеда или двух, и за ними я маршировал с судком за 8 кварталов, через весь центр города. А давали там чаще всего — голубцы из перловой каши… Когда в 1933 появился тяжёлый ржаной сырой «коммерческий» хлеб по 3 рубля за килограмм — за ним выстраивались очереди по 800 и 1000 человек, выстаивать за 1-2 килограмма надо было 4-5 часов, это тоже стоял всегда я, а кому же? — остро усвоив все приёмы очередей, запоминаний, перекличек. То — и были мои отроческие игры, и в очередях сколько же я книг прочёл, всегда бежал в очередь с книгой.
***
Со всех сторон жизнь сама разорялась, и только поощряла в горькой сладости разваливать её дальше. Самым лучшим выходом для нас был — футбол вместо уроков. Я хотя игрок был средний, но энтузиаст — из первых (сберегая единственные ботинки, я, как и другие, играл босиком). Сбежать на 1-2 урока — ни до стадиона, ни за город мы не успевали, школьного двора у нас не было, — но в полутора кварталах от школы стояла года два назад закрытая, чуть прирушенная церковь Казанской Божьей Матери, около левого притвора её оставался кусок пустого пространства — и туда мы бегали играть, лупя мячом то в боковое крыльцо, то в поваленные каменные надгробья. Как могли видеться пожилому прохожему наши игры? — как сатанинская забава. И это был я, недавний ревностный молельщик! И сердце не взнывало, что я делаю худое, — после изгнания из пионеров я отдался этому разору и простору. Около этого времени получил я и школьную кличку Морж, отчасти за то, что в морозные ветры ходил с расстёгнутой шубой.
***
К чему у меня была страсть в те годы — к посещению футбольных матчей. Ростовская команда, за три года до того знаменитая, всё же ещё оставалась не третьего сорта, бывали матчи со значением. Тут мой напарник опять был Мотька Ген. Едва появлялась афиша о новом матче — мы уже томились. У нас не было денег на входной рублёвый билет, да и на детский, 30 копеек, путь был один — через забор. Это нам всегда удавалось хорошо, часа за полтора до начала матча. Так рано забор ещё не охранялся, и на стадионе были тихие теневые уголки, где можно пересидеть. Но тут проявлялось новое томление: хорошо видно только с трибуны (трёхрублёвой), как бы проникнуть ещё и на трибуну? Контроль на ней устанавливали позже, ближе к матчу, — но и на пустую трибуну первыми тоже войти нельзя, заметят. Итак, надо было из засады угадать (и без часов, по стуку сердца) время первого заполнения, но ещё до установки контроля — и очень медленным шагом, с независимо небрежным видом взойти, сесть, места не нумерованные, и теперь очень солидно (и мучительно) пересидеть до установки контроля, как бы не согнали. А затем уже начиналось одно счастье и ажиотаж. И только с отчаянием думали: а когда будем взрослыми, через забор уже нельзя будет перелезать — но и деньги такие откуда мы возьмём?
Впрочем, по сохранившемуся архиву вижу, что и в эти пустые годы моё литературное копошение не прекратилось: с осени 1932 выпускаю дома ни для кого «Литературную газету», выпусков дюжину, в ней печатаю комедию «Званый обед», обещаю «Искатели жемчуга», «Лучи» и «14 шкатулок» (в подражание «12 стульям»).
***
Любовь воображалась тончайшим чувством, и путь к ней должен быть долгим и идеальным. Тут соединённо действовало несколько причин. И безотцовство, не было надо мною мужчины, который смекнул бы вовремя, что мне надо объяснить, посоветовать, исправить. И от старых книг, от Шиллера и рыцарских. Какой-то год у нас дома на подкладке отрывного календаря висела «госпожа Рекамье», видимо, Жака Луи Давида, глаз не оторвать, так и парила надо мной нежнейшим средоточием земной красоты. Но бесполое воспитание той эпохи ничего не могло направить верно. И состроилось во мне так, что женщины — существа высшие, нужно им рыцарски служить, восхищаться ими, любоваться, заслуживать их расположение — вот что прирождено мужчине. (Впрочем, такое миропредставление льётся и в Пастернаке.) В девочках — томительная тайна, и от неё сладко ноет душа. Нравиться — могут только женщины мужчинам, не наоборот, они — лишь снисходят к нам. Я ниоткуда не почерпнул представления, что мужчина тоже может быть привлекателен, и даже красив, и притягивать женщин. Над вопросом, чем же именно могут и мужчины нравиться женщинам, я совсем не задумывался. А так как мне и одеться всегда было не во что, то к тому ж я и ходил в самом скудном, да не следил ни за наружностью своей, ни за причёской. Невдогад было мне, что надо ж и самому выглядеть молодцом, чтобы нравиться.
Но нахожу два дня съездить на родину, в Кисловодск. Я не видел его со своего пятилетнего возраста — то есть, по сути, совсем не видел. И сейчас, имея тут лишь единственную ночёвку, я шагаю-шагаю-шагаю по городу, чтобы соединить раздробленные впечатления и охватить вместе. Как волнует нас место нашего рождения и раннего детства. Но что я совсем забыл — это воздух! Изумительный воздух Кисловодска, особенно сладкий по утрам и по верхним нагорным кварталам. В других местах, в больших городах дышишь — думаешь, что воздухом, — а нет, вот он где.
Уже приструненный советским страхом, не иду ни в дачу тёти Иры, ни тёти Маруси: будет подозрительно, спросят: кто?
А вот куда успеваю, и то между двумя поездами, бегом: к могиле Лермонтова. Я впервые, и в последний раз, вижу это место — ещё нетронутым, неизгаженным, первобытным: только тропка по траве от станции, ни единого человека не встретил ни туда, ни сюда, не то чтобы будущее соседство асфальта, ларьков и сувениров, — одинокий обелиск на опушке леса, чугунные цепи вкруговую, — а из-за леса как раз нашла тёмная дождевая туча, нависла — и хлынула, как и тогда, после дуэли.
Не только от детской близости к тому Лермонтова, моей любимой тогда книге, но оттого что я родился вот совсем рядом с тем, где он умер, через 77 лет разрыва — я горячо воспринимаю его близость — и какую-то наследственность.
С этого возраста, с 17 лет, я ощущаю свою жизнь как стрелу, запущенную не мною. Мне в полёте надо было только: не отклониться (хотя сам не знал, куда лечу), не задержаться — успеть! Только бы успеть до смерти! — не так, как Лермонтов не успел. (Очень боялся умереть в 27 лет, как и он, как и папа.)
И это постоянное состояние полёта надолго формирует мой характер. Бережливость к каждому атому времени — любое короткое отвлечение, любой короткий пустой разговор меня раздражает. Бережливость к каждому атому силы — ничего не тратить зря, оплошно, а только в нужном направлении (но каком?). Бережливость к каждому рублю и копейке (воспитанная и скудством детства) — потому что за каждую придётся доплачивать тратой времени и сил.
Александр Солженицын
На последнем…
Колол я подряд толстые бревёшки — и всё содновА, не натуживась на добивку. И эту — тоже сразу, а нет: заколодила. Я ее ещё, ещё, и перевернул, с другого торца, — нет, не даётся: невидимый снаружи маленький внутренний сучок дал ей эту внезапную силу сопротивления.
Так бывает иногда и с людьми податливыми: вдруг на самой последней черте остоится — и не даётся никакому напору, не узнать его…
«Только вернувшись в Россию, я оказался способен снова их писать, там — не мог…» Эту фразу из письма писателя в «Новый мир» редакция поставила эпиграфом к публикации «Крохоток» 1990-х годов (1997. № 1, 3, 10; 1999. № 7). И в самом деле, за двадцать лет изгнания — ни одной крохотки. Не раз говорил с удивлением: «Смотри-ка — не пишутся…» И вот в середине 2000-х, уже десять лет как дома, готовил Александр Исаевич к печати очередной том «Красного Колеса», попутно просматривал вермонтские «Сбросы» (груда конвертов, папок с черновиками и отработанными материалами), и попалась ему четвертушка листа с девятью правлеными строчками. Прочитал, повертел, дальше править не стал. Сбоку написал карандашом: «Утерянная крохотка (единственная в изгнании)» — и отдал мне «в дальний архив». Беловика не существует, на черновике даты нет, можно сказать лишь, что написана крохотка между 1978-м и 1984 годами, когда А.И. регулярно пилил и колол дрова во дворе нашего дома в Кавендише.

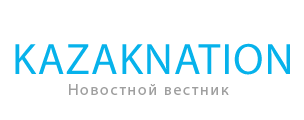





Комментарии