
Роберт Лепаж рассказал, почему спустя время вернулся к спектаклю 1994 года
Почему вы решили вернуться к своему спектаклю 1994 года «Семь притоков реки Ота» и почему в качестве места для премьеры выбрали Москву, Чеховский фестиваль?
Робер Лепаж: «Семь притоков реки Ота» был, безусловно, самым значимым спектаклем Ex Machina, с которым мы объехали полмира. И как многие наши амбициозные проекты, он пережил несколько реинкарнаций. Были трех-, пяти-, и, наконец, семичасовая версия. Мы начали работать над проектом в 1992 году, после того как я впервые оказался в Японии, что произвело на меня огромное впечатление и повлияло на всю мою работу. Тогда же я побывал в Хиросиме, и меня потряс этот город, такой прекрасный, но имевший такое страшное прошлое. К 1995 году, 50-летию с момента бомбардировки, мы выпустили полную семичасовую версию, и для нас было очень важно, что мы смогли сыграть премьеру в Японии, в Токио.
В следующем году будет 75 лет со дня бомбардировки Хиросимы, и это первая причина нашего возвращения к старому спектаклю. И вторая — очевидно, что тема ядерного оружия стала угасать, в 90-е она была гораздо более обсуждаема. Сейчас есть ощущение, что об этом забыли, и мы неожиданно обнаружили, говоря с молодыми, что они вообще ничего не знают о Хиросиме. Они просто не знают, что там произошло. Более того, люди сегодня не знают, что было в мире 20 лет назад. Проблема памяти становится очень острой. Потому что люди повторяют одни и те же ошибки, забывая прошлое.
Еще одной причиной возобновления стало то, что теперь у нас впервые в жизни появился свой театр. У нас была база в Квебеке, где мы репетировали, но мы там не могли играть. И, конечно, теперь, когда мы обновляем наш репертуар для своей площадки, нам нужны сопродюсеры, готовые вложить деньги в проект, еще не видя его. Чеховский фестиваль, который стал для нас вторым домом и семьей, отозвался одним из первых. Поэтому мы здесь.
Слово память — едва ли не главное в современном гуманитарном словаре. Что вы думаете о современной политике памяти?
Робер Лепаж: Два года назад на Чеховском фестивале я показывал в Театре Наций свой спектакль «887», который как раз говорит о памяти. Я пытался вернуться воспоминаниями в свое самое раннее переживание. И конечно я готовился к постановке, читал все, что мог о физиологических, научных и духовных аспектах памяти. И понял, что театр — это есть искусство памяти. Во-первых, в прямом и наивном смысле: самый первый комплимент, который я как актер получал от родных и знакомых, был: «Какая у тебя прекрасная память!». Центральной темой театра является память, конечно, еще и потому, что какую бы пьесу не играли артисты, они существуют в настоящем времени, здесь и сейчас. Это в корне отличается от документального фильма, например, потому что эти люди прекрасно понимают, что говорят о прошлом, но говорят они в настоящем времени, стоя перед вами здесь и сейчас.
Расскажу вам забавный случай про память. Однажды я работал Барселоне, и директор Национального театра Каталонии сказал: «Послушай, мы бы хотели тебя пригласить поставить Шекспира, потому что у меня актеры как раз подросли для того, чтобы сыграть Ричарда или Лира». — «У тебя что, не было раньше артистов на эти роли?» — «Нет, — сказал он, — во время гражданской войны Франко пытался уничтожить каталонский язык, каталонскую культуру. Язык был под запретом, вся каталонская пресса была под запретом. И тут выяснилось, что остались актеры, которые, пока играют, передают память своей культуры. Кому-то из них удалось уехать, но огромное количество именно каталонских артистов было уничтожено, чтобы уничтожить память».
Мы сегодня постоянно сталкиваемся с тем, что люди повторяют и повторяют грубые ошибки прошлого. Они что, не помнят того, что случилось 20-25 лет назад, что было на их глазах: что они сами так-то и так проголосовали, сделали такой и такой социальный выбор? Они что, этого не помнят? Учителя истории очевидно халтурят. И потому я как стареющий артист подумал, что это теперь моя ответственность, моя работа — сделать спектакль про прошлое, пробуждая в них эти знания, в котором бы театральный словарь, средства выражения были суперсовременными, а предмет, о котором мы говорим, все-таки отсылал нас к событиям прошлого.
Почему вам так важна идея связи всего и вся в мире?
Робер Лепаж: Во-первых, сегодня все помешались на том, чтобы быть международными, все хотят иметь доступ к любому культурному продукту. Это продиктовано, в частности, рыночной экономикой. Чтобы достичь этого эффекта люди берут что-то очень личное и пытаются превратить его в нечто международное. Они помешаны на этом интернационализме. Я не хочу быть интернациональным, я хочу быть глобальным. Глобализм — это совершенно другое понятие. Быть универсальным, глобальным, значит, говорить максимально искренне честно, без всяких компромиссов и допущений. И если я говорю максимально честно, то я непременно встречу эхо в ком-то, живущем совсем в другой стране. Я из очень молодой страны с очень молодой культурой. Канаде исполнилось всего 150 лет. Поэтому канадцы, особенно, французские канадцы, чтобы понять, кто они и что, должны много ездить и путешествовать, чтобы посмотреть на себя со стороны.
Вы много говорили о канадско-французском сепаратизме 1950-60-х годов. Вопрос о том, как сознавать себя, кто мы есть, сегодня, кажется, очень остро стоит перед всем миром…
Робер Лепаж: Я, разумеется, могу говорить о том, что знаю сам. Французско-канадский сепаратизм был не столько культурной потребностью, хотя необходимость самовыражения была насущно необходима, сколько абсолютно жизненной реальностью. В 50-60-е, если ты был французским канадцем, ты, скорее всего, был бедным. Если ты говорил по-английски, то у тебя была возможность как-то продвинуться и даже стать боссом. Это был вопрос каждодневного выживания, прежде всего — для рабочего класса. По мере того, как Квебек стал расцветать, квебекский сепаратизм становился все более буржуазной идеей. Например, в прошлом году был съезд сепаратистов из Квебека, Шотландии и Каталонии, и оказалось, что между ними крайне мало общего. Какие-то общие вещи тоже есть, но все они находятся в разных контекстах, и потребности в сепаратизме у них совершенно различны. Когда я живу в Квебеке, я совсем не чувствую себя канадцем, я чувствую себя квебекцем. Но надо честно сознаться: когда я еду в Европу и вижу кого-то с кленовым листочком на майке, я вдруг рядом с этим человеком из Ванкувера начинаю чувствовать себя канадцем.
В этой перспективе меня интересует сознание космонавтов. У меня есть друг, канадский астронавт, недавно он вернулся с космической станции, где был вместе с американским астронавтом, космонавтом из России, а потом к ним прилетел еще и японский космонавт. Так вот: он мне рассказывал о жизни на станции. В течение дня каждый сидит в своем углу и делает работу для своей страны, оглядываясь на соседа, чтобы тот не заглянул в его изыскания. Но раз в день, и от этого нельзя отказаться, они садятся за общий стол, едят и разговаривают как одна семья, переставая себя чувствовать посланцами своих стран. Кем бы ты ни был, твое самосознание зависит от той точки, в которой ты сейчас находишься. Когда я в Канаде, я — квебекский сепаратист, в Европе я — канадец, а на космической станции — землянин. Задача художника, если он хочет говорить об идентичности — это правильно поставить камеру.
В «Семи притоках», как и в других ваших спектаклях, много отсылок к японскому традиционному театру. С чем это связано?
Робер Лепаж: Все формы традиционного японского театра очень меня привлекали. Самый большой эстетический шок, который я пережил, был, когда я впервые увидел театр Кабуки. Все эти сугубо иерархичные формы дают необычайное пространство для свободы, то, чего совершенно не ожидаешь от традиционного театра. Я заканчивал Консерваторию в Квебек-сити, и там нам говорили, как говорят во всех театральных школах, что мы должны делать весь спектакль в одном стиле. Маша, Оля и Ирина в «Трех сестрах» должны быть одеты в костюмы одной эпохи, и так далее. Но если ты сделаешь так в Японии, тебя обвинят в недостатке воображения, или сочтут нищебродом. Потому что Ольгу надо, наверное, играть в стиле Кабуки, Ирину как юную бунтарку можно представить в духе современного европейского театра, а Машу вообще заменить ростовой куклой. Поэтому я и испытал такой шок от возможности свободного смешения всех форм там, где мне казалось, это невозможно. Как раз, когда я вернулся из Японии и стал работать над «Семью притоками», я понял, что если я хочу оставаться верным этому японскому опыту, я должен создать несколько языков внутри одного спектакля, несколько способов игры, и для того, чтобы они как-то взаимодействовали между собой, мне и понадобилось семь часов игрового времени.
И еще одно — я был очень впечатлен работой Ариан Мнушкин, которая в 80-е пережила тот же шок: она съездила в Японию, и когда вернулась, спросила: как мне поставить Шекспира так, чтобы прокрутить его через японскую мясорубку Кабуки?
Вы поставили несколько шоу для Цирка дю Солей. С кем было легче работать, с акробатами или актерами?
Робер Лепаж: Я всегда хотел работать в цирке. Если выделить главное, для меня цирк, как и опера — это прежде всего вертикальное искусство. Человек, возможно, падает в ад, но он всегда пытается взлететь. К тому же в Канаде финансируют либо спорт, либо культуру. И потому две эти группы просто ненавидят друг друга. И только цирк объединяет всех. Я никогда не видел людей, которые ненавидят цирк. Цирк — интересная форма, потому что это чистый миф, ведь он рассказывает о полубогах. Цирк для меня как олимпийские игры. Олимпиада не про спорт, а про миф, про невозможное преодоление.

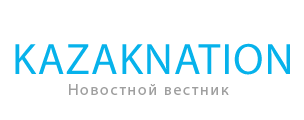
















Комментарии