
Кто выиграл в споре Андрея Кончаловского и Эдуарда Артемьева
В московском Театре мюзикла прошла премьера рок-оперы Эдуарда Артемьева «Преступление и наказание» в постановке Андрея Кончаловского. Ее путь от замысла до воплощения на сцене занял более трех десятилетий и, как уверен обозреватель, еще далеко не завершен.
Никому не придет в голову сверять роман «Дон Кихот» с балетом и подсчитывать потери. Было бы непродуктивно и рок-оперу «Преступление и наказание» сличать с буквальным Достоевским, и мы этим заниматься не будем. Тем более, что уже есть свой оригинал и у этой оперы — фантастическая по силе аудиозапись, рассчитанная на полный состав симфонического оркестра с огромной ролью, отведенной народным инструментам и электронике. В скромной оркестровой яме Театра мюзикла это все не разместить, и музыку пришлось аранжировать для малого состава. Артемьев этим заниматься отказался, все сделали другие люди. И вот здесь потери неисчислимы: пространственное звучание музыки сменились тупой плоскостью. На треть сокращенное сочинение потеряло цельность, развитую музыкальную драматургию сменили не всегда органично сцепленные концертные номера. Величественные симфонические картины наводнения в Питере, многозначно завершавшие трагедию, заменены стандартным просветлением всепобеждающей любви. Музыкальное произведение перестало существовать как единство.
Более того, эти номера сменили окрас. Изначально каждый персонаж существовал в своей музыкальной стилистике: от фольклора, классики и религиозных песнопений до кабаре, рока и рэпа, — теперь все это многоцветье перешло в монотонный рок, и чересполосица русской жизни, так ярко выраженная в музыке, тоже исчезла. Между тем это музыкальное ноу-хау могло бы поддержать и укрепить режиссерский ход с переносом действия в неопределенное время — от допотопной Руси с клячами и телегами до петербургского метро с грохотом составов, песнями «афганцев» и убогой торговлей тряпьем.
Предполагался образ вечной Руси с ее непреходящими проблемами, неистребимым «гуляй, Вася!», любовью к насилию и общей склонностью врать друг другу и самим себе. На этом фоне студент Раскольников в чердачной каморке с портретом Ленина и серпом-молотом на стенке выглядит единственным радетелем за правду: он с оперной патетичностью клеймит погрязшее во лжи общество, его монологи пламенны и болезненны одновременно. В спектакле идет борьба этой народной стихии, органически впитавшей всепроникающую ложь и покорно в ней живущей, с бунтарской идеологией, где Ленин и Че Гевара смешаны с «Майн кампф».
Мы увидели плоды спора двух выдающихся художников, из которого никто не вышел победителем
Травмы детства героя даны через сны Раскольникова. Лейтмотивом проходит сцена убиения изнуренной лошади: на месте и «тощая саврасая крестьянская клячонка», и развеселый саврасовский люд, до отказа загрузивший телегу, и отчаянный крик мальчонки. Уход многих персонажей объясним: роман огромен, а у нас без малого три часа действа. Но остается философия, которую хочет вобрать спектакль. Как и фабулу книги, он ее передает пунктирно и с неизбежной упрощенностью. Среда обитания — чудовищна, тотальная ложь разъедает сознание и делает невозможным существование человека как личности. Идеи Достоевского о тщете насильственных попыток переделать общество получают продолжение в политических мотивах уже новых веков, причем зависшие над действом иконописные образы, как бы возвращающие нас к совести, в нынешнем контексте неизбежно напомнят об истоках терроризма. Итог — Болотная площадь с въехавшими на сцену автозаками, где потенциальных Раскольниковых усмиряет спецназ. Сомнения Достоевского остались, но его боль перешла в регистр истерики, а тревога за судьбу личности таким итогом дезавуирована настолько, что финал со срочно победившей любовью выглядит стандартной утешительной сказкой.
У музыкальных действ свои способы выражать мысль: номер — концентрат, и то, что в книге разлито по главам, здесь спрессовано до восклицательного знака, или тихого вопроса, или многоточия. В музыкальных действах главенствуют не разум, а мотивы-эмоции: одиночка против толпы… бунт всегда связан с кровью… забыть про совесть и жалость… ради детских слез. От Порфирия Петровича оставлена ведущая тема: спасти молодежь от идей насилия, от разрушения. Тема скорее лирическая: следователь музицирует на фортепиано, он настроен горестно-философично, агрессия Раскольникова разбивается о его нежную грусть. Написанная Артемьевым опера волшебным образом вбирала в себя спектр переживаний романа, в ней шла ожесточенная борьба страстей и чувств — была музыкальная драматургия. Музыку раскололи на фрагменты, развинтили на детали, потом собрали заново, — а она была живой, она дышала. Этого нервного дыхания не хватает спектаклю — он выглядит умозрительно холодным, из оркестровой ямы не слышно жизни. Эмоциональный итог оперы: одиночка — кумир, но в нем нет Бога. Рациональный приговор спектакля: надо пороть — и буйных не станет.
В этом готовом сценическом продукте очень чувствуется стремление угодить вкусам молодой публики — в эту точку бьют все переделки и, чтобы не заскучали, купюры. Я понимаю, что Андрей Кончаловский, как автор идеи и соавтор либретто, вправе предлагать собственное видение и романа и необходимой музыки. Но, вероятно, настроения автора идеи и композитора за тридцать лет разошлись слишком далеко, и возникшая наконец опера уже мало соответствовала эволюции творческой затеи. Начались поиски компромисса — и опера стала, скорее, подобием драмы с музыкой. Мы увидели не любимое дитя двух выдающихся художников, а плоды их спора, из которого никто не вышел победителем. Остается надеяться, что какой-нибудь театр, располагающий более совершенными художественными ресурсами, увидит в опере Артемьева произведение не только этапное, но и самодостаточное. И даст ей жизнь во всем ее полнозвучии и размахе.

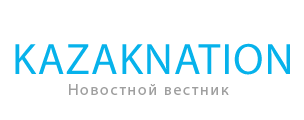
















Комментарии